Сайты митрополий, епархий, монастырей и храмов
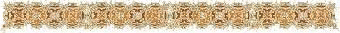 |
 |
Охота на волков. Из пережитого |
4 декабря 2011 г. Зима. В пути. Еду с друзьями в машине. Мороз. Поземка со змеиным шипеньем ползет по дороге. Ноги затекли и шея тоже. В голове как будто са¬мовар кипит: то какие-то звоны, а то и вовсе как будто молотом по нако¬вальне бьют. Попросила водителя остановить ма¬шину, чтобы немного размяться. Всю ночь едем. Выбрались из машины. Начинался рассвет. На востоке ру¬мяниться начало небо. Морозец ядреный и колючий. Ноги не хотят идти. Стоять больно. Но это кровь по жилам с трудом двигается от долгого сидения. Вот и надо размяться, передохнуть. А восток меж тем загорелся такой румяной зорюшкой, что снег будто кровавым стал. И вдруг в сердце моем боль появилась, и озноб начал трясти. На душе так тревожно стало. Вспомнить что-то давнее хочу – и не могу. И вдруг меня словно пронзило – и вспомнила я. Детство свое вспомнила. Вот такую же кровавую зорюшку, только вечернюю. И зиму холодную с буранами и с трескучими морозами, зиму в сороковых годах. Шла Великая война с фашистами. Так же на западе загорался вечерний закат. Небо на за¬паде как будто кровью залито, а снег точно был залит кровью волков. И все пе¬ред моими глазами так ясно встало и вспомнилось… Волки в ту зиму стаями по улицам деревни ночью и в вечернюю пору ходили, не боясь ничего. Их война со своих родных мест вспугнула, и у нас, в Сибири, их развелось столько, что днем поодиночке на лошади в лес было страшно ездить за дровами или за сеном. Всегда несколько пар, и извозчи¬ков до десятка человек. А то волки, в одиночку если поедешь, загрызут. Покоя от волков совсем не стало. Они загрызли в деревне многих собак. И в ов¬чарню колхозную в одно отделение через окно пролезли и там тридцать две овцы задрали. И чуть сторожа не загрызли, только он с горящей головней от них отбился и в сторожку скрыться успел. Вот тогда сельчане объявили волкам войну. А мы, дети, любопытные, хоть и страшно было до жути, но в загонщики пошли все, кому позволили родители. Меня мама не хотела отпускать, но я ее упросила. Пообещала, что в загонщики не пойду. С кем-нибудь из взрослых в скрадке буду. И тогда ма¬ма на меня махнула рукой. Сказала: «Вот прицепилась мора, не отобьешься. Иди уже, только в скрадке будь. А то получишь нещадно потом, не будь ослухом. Да обуй ноги потеплее и шалку пуховую на голову одень, а то мороз нын¬че уж больно злой – видишь, какая поземка тянет? То и смотри – буря снова завоет. Ты там осторожно. Если замерзнешь, домой беги». От радости я даже подпрыгнула. И действительно стала тепло одеваться, боясь, как бы мама не раздумала. Мама проверила, тепло ли я оделась. Потом перекрестила меня и сказала: «С Богом, охотник». И, смеясь, тихонько толкнула меня. На улице я к охотникам пристроилась и следом за ними пошла. На меня никто не об¬ращал внимание. Все шли молча, уже каждый знал свое место. Руководил об¬лавой старый опытный охотник, ему много было годов. Не знаю сколько. Он шел в тулупе с ружьем под мышкой. Мальчишки, девчата-охотницы и взрос¬лые женщины – у кого ружья, у кого жжужалки, трещетки, колотушки, буб¬ны, рожки пастушьи и свистульки, а у кого из тростника свирели – все это бережно держали в руках и молча шли на волчью охоту. Войну объявили вол¬кам. Как-то жутко мне стало. Хотела вернуться домой, но насмешек сильнее страха боялась. И старательно шла, чтобы не отстать. Поди ж, волки не загрызут. Вон сколько народу. И все серьезные, и молча идут. Дед Панфил – серьезный старый охотник, на его счету много волков. Ему в районе за каждую шкуру волка премию – муку-крупчатку – дают. А его жена, бабушка Агрипина, печет блины и нас, детвору, угощает. Говорит: «Кто вас такими вкусными блинами покормит, ведь ваши батьки все на вой¬не. Вот и отведайте». Она – бабушка Агриппина – высокая, худая, как жердинка. И лицо все в морщинах, а глаза большие, синие-синие, веселые. Всегда смеются. И руки худые, все в синих жилах. Она никогда без работы не сидит. То что-нибудь вяжет, то прядет, то на кроснах что-то ткет, то кружево на коклюшках вяжет, потом воротнички нам, детям, дарит. У них с дедом, говорят, никогда своих детей не было, она нас всех голубятами зовет. А то воробышками обзы¬вает. Скажет: «Заходите в хоромину нашу, воробышки, блинами да молоч¬ком буду сейчас вас угощать. Поди ж, мамки вас такими вкусными блинами не кормят. Да где им взять такой муки, да и некогда им бедным с блинами возиться. Работы у них выше головы. А мне что старой делать? Только что и есть – блины печь. Мне нравится вас угощать. Своих деток мне Бог не дал, так зато вы все – мои. Вон, все разные, да какие пригожие, сердешные вы воро¬бышки мои». Да и кончиком платка головного слезы с глаз и утрет. Дивная была та бабушка Агриппина. Всегда такая светлая, чисто одетая. Всегда чисто, уютно, тепло было у нее в хороминке (или хоромине) – так она свой дом называла. Там было много чудесных вещей. И все всегда на своем мес¬те. Но почему-то взрослых бабушка Агриппина не любила. Она о них говорила: «От этих баб откреститься нельзя. Не люблю баб, от них одни трепла. А от де¬ток – костерок тепла да добра получаю». Я не понимала бабушку Агриппину, но любила ее. Да ее вся детва любила и ее дедушку. Дедушка молчун боль¬ше, он бабушку все слушал, да поддакивал ей, говоря: «Ты, Агапушка, в са¬мую суть смотришь, все правильно судишь». Я никогда не видела, чтобы они спорили или ругались. Они всегда мирно жили. Без споров, все в согла¬сии. И вот мы приближаемся к месту охоты. Дедушка остановился и стал распределять, кому что нужно делать, и где быть, и куда шагать. А меня взял с собой. Говорит: «Ну, малявка, будешь со мной, а то еще куда попадешь, потом мамка твоя мне за тебя голову открутит. Чуешь, малявка, со мной и никуда от меня. Поняла, ай нет?» «Поняла, поняла, дедуля». И мы пошли с ним в его скрадок. Дедушка прикутал меня своим тулупом, сказал: «Так, детка, тебе бу¬дет теплее, а то, вишь, мороз крепчает на ночь. Скоро разбойники-волки придут. Загонщики резвые вспугнут с лежбища. Вон уже на западе зорюшка зару¬мянилась. В деревню стая на охоту пойдет. Понравилось по стайкам шас¬тать. Он волк умный, знает, что мужики воюют, вот и обнаглели. Развелось их тьма. Отстрел-то некому вести. Все охотники на войне. А у волчиц до 7-10 щенков. Уж очень нынче они плодовиты. Ишь, сколько скотины режут! Беда, да и только. Но я их, детка, люблю. Он, волк, зверь умный. Жалко их убивать, а что делать. Обязали меня, хоть скоро мне девяносто стукнет. А куда мне деть¬ся, обязали, хочь – не хочь. Не смотрят сейчас, что я старик». Я слушала его молча. А потом сказала: «Деда, а деда, да какой же ты старик, ты добрый и хоть куда. Я же видела, как ты на Гаврюшиной свадьбе отплясывал. Деда, а по¬чему Гаврюша со своей Анфисушкой ушли сразу после свадьбы на войну?» «Да от того, детка, они и поженились, что их обоих брали на войну, что, может, более не будут живы, Бог ведает, что дальше будет, а они так решили, хоть немножко, но вместе побыть». Тогда я ничего не поняла из нашего с дедом раз¬говора, но ему поддакивала, как будто что-то понимала. На западе вечерняя зорюшка небеса зарумянила. Все краснее и краснее небеса становились. И мороз крепчал. Под тулупом деда мне не было хо¬лодно. Но дед заставил меня притоптывать ногами, чтобы я не мерзла. Я об¬ратила внимание на снег, он был почти что красный. «Деда, а деда, посмотри на снег, он не белый». «Это, детка, зорюшка его подкрасила», – ответил мне дед. «Морозец будет знатный. Вот что это значит, да и сейчас мороз мне дыхалку перехватывает. Ты еще не примерзла к снегу? Смотри, не ознобись». И вдруг дед рукой мне на плечо нажал и молвил тихо: «Вишь, окаянные, кажись, идут». И стал метиться. У меня сердце, кажется, в горле биться стало. И дед вы¬стрелил. И что тут началось! Такой шум-гвалт! У меня от страха волосы ды¬бом. Я уцепилась деду за ногу. А дед, не обращая на меня внимания, перезаря¬дил ружье и опять стрельнул. И проговорил: «Вот вам, окаянные, как скотинку и собак резать». А гвалт не прекращался. Я крепко зажмурила глаза и, уце¬пившись за дедову ногу, боялась, чтобы деда не побежал, потому что мои ноги как будто примерзли к снегу. Меня бил озноб. Я такого страшного гвалта от¬родясь не слышала. Я даже не поняла, что этот гвалт загонщики и охотники с ружьями устроили. Я смотрела, а серые тени, мелькавшие по красному снегу, подпрыгивая, падали молча. Я даже и не понимала, что это бы¬ли волки. Наконец, дед сказал, тряся меня за плечи: «Все детка. Кажется, ни одного зве¬ря не выпустили. Моя наука пошла впрок. Ну что, пойдем смотреть, что на¬творили. Ай, да ты что плачешь? Волков что ли жалко?» «Жалко, деда, жалко. Хоть они и волки, но мне их жалко. Они мне худого не делали. Да я их живы¬ми и не видала, только у тебя, деда, мертвых видела. И то только шкуры одни. Это было не страшно. А теперь, деда, мне страшно. Я не хочу смотреть». «Но, детка, придется. Я не могу тебя одну оставлять. Пойдем. Вон, видишь, все туда идут, и нам туда нужно». Вечерней румяной зарей подкрашены небе¬са и снег на земле, и стая убитых волков в крови, на окрашенном кровью снегу лежала. И люди толпились над убитыми волками. Молча стояли, их как будто немотой поразило. Кто-то тяжело вздохнул, как будто со стоном, кто- то сказал: «Нужно в деревню пойти за подводой, а то застынут. Шкуры не сде¬решь потом, что теперь стоять да мерзнуть. Вон, какой мороз. А то ознобимся. Айда, детвора, по домам, а то портянки к ногам примерзнут». Кто-то под-толкнул меня. «Ну что, охотник с наперсток. Ты чего плачешь? Вишь, слезы на щеках намерзли, как бусинки. Что, волков жалко? Жалко, очень жалко. А что же нам делать? Они так всю скотину порезали бы. Ведь не одна стая, их много развелось». За шкуры волков муки несколько мешков дали. Муку в школу отдали, и нас кормили обедами в школе. Еще несколько раз на волков делали облаву. Но я больше не ходила. И у мамы не просилась ни на какую охоту. Если гово¬рили про охоту, я не могла спокойно слушать. Меня била дрожь. Нина Кондратьевна Бибеева, |
